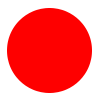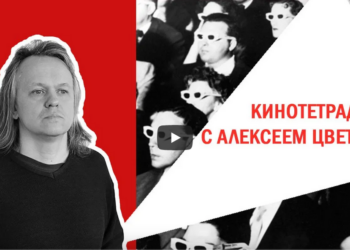«Зубные порошки меня волнуют» — писал Николай Олейников, один из самых элегантных наших поэтов. Я люблю такую легкую и одновременно наблюдательную манеру смотреть по сторонам. После неё остается в голове мудро-ироничный эффект, но никаких особенно новых мыслей не возникает, мелодия без слов, чувство приятной задумчивости, но сказать, о чем именно ты призадумался невозможно, да и не хочется.
«Мечты о спичках, мысли о клопах,/ О разных маленьких предметах». Именно так известные мне зрители смотрят «Французский вестник» Андерсона — «Какие механизмы спрятаны в жуках/ Какие силы действуют в конфетах». Всё так, но хочется добавить к этому немного отсебятины, раз уж у меня есть вк.
Самая марксистская новелла в фильме про художника в психиатрической тюрьме, а вовсе не про молодых бунтарей с их вовремя отредактированным «Манифестом». Про художника романтический штамп пропущен через трогательную иронизацию. Художник это чудовище в смирительной рубашке (через него говорит нечто большее, чем он сам, не будем сейчас уточнять, что именно, какие стихии). В тюрьме бытия у него есть идеальная жена, она же муза—надзиратель, которая и занимается его делами, преследуя собственные цели. Он делает своё запредельное искусство из опыта и материала, данного ему тюрьмой – изображает воробья горелой спичкой, пишет фреску имеющимся под рукой тюремным дерьмом. Главный скандал его работы в том, что потребительную ценность полученной фрески сложно наделить меновой стоимостью – искусство не просто сделано из материала тюрьмы, оно и остается частью тюремной стены, как некий новый элемент тюрьмы, как драматическая история о собственном происхождении. Но нет, всё же мобильность арт-рынка побеждает в этой притче, окончательно превратив её в сказку с вопросительно счастливым концом. И да, Тильда Суинтон идеальна в роли рассказчицы этой самой сказки, завернутой в оранжевый нарциссизм арт-бизнеса.
Что касается новеллы о молодых бунтарях, то она отсылает нас к деполитизации (к выниманию политики из всего), которая была так важна на страницах классического «Нью-Йоркера» и его подражателей. Изъять политику из всего, что происходит, даже если это баррикадные столкновения, и рассказывать замысловатые истории отдельных людей, всё время сводя эпическое к лирическому, получая сюжеты, из которых не выжмешь никакой общей морали и разумеющегося вывода. Полная победа декоративных признаков над морфологическими.
Что стоит знать, чтобы эту новеллу было смотреть чуть интереснее?
1. Образ Шаламе точно копирует известную фотографию молодого Троцкого. Шаламе, кстати, уже изображал забавного и ненадежного левака с книжкой Говарда Зинна в «Леди Берд».
2. Требование доступа в женские корпуса общежитий было в 1968 примерно в середине списка студенческих требований и укладывалось в логику «сексуальная революция является частью политической революции, которая в свою очередь является частью освобождения всех от капиталистического прошлого». Изъятое из этого контекста это требование давно стало любимой игрушкой буржуазных иронистов, деполитизирующих всё до понятного им уровня с бессознательной целью сохранить и воспроизвести нынешнее положение вещей и своё неизменное положение среди этих вещей, продолжить своё самодовольное умиление «всем этим».
3. Во время событий 1968 в Париже погиб всего один протестующий, юноша-маоист, который убегал от полиции и утонул в реке. Его похороны превратились в очередную грандиозную демонстрацию студентов и левых.
Вообще весь фильм — большой оммаж «Нью-Йоркеру» и его манере рассказывать. С 1950-х по 1980-е в Америке считалось, что «Лайф» (эффектные фото и минимум текста) лежит на журнальном столике у простонародья, а «Нью-Йоркер» (длинные замысловатые истории с занимательными портретами и с милыми рисунками, без морали) очаровывает образованный средний класс. В 1980-х, впрочем, «Нью-Йоркер» пошел на ряд компромиссов с постмодернистским смешением этажей и уровней, но не буду здесь пересказывать «Nobrow».
Окончательности это подношение классическому «Нью-Йоркеру» достигает в последней новелле (рубрика «Вкусы и запахи») про суперповара, рискнувшего собой ради родной жандармерии. Кулинарность и гастрономия вообще очень точно передают это отношение к жизни. Когда вы живете, вы не ведете войны (даже если вокруг стреляют), вы не делаете научного исследования (даже если узнаете много нового), вы не стремитесь попасть в утопию (даже если вы на баррикадах). Но что же вы делаете, когда вы живете? Вы делаете салат. Своё собственное авторское блюдо, которое вы с любопытством пробуете сами и которым вы иногда готовы угостить кого-то ещё. Человек человеку кулинарный критик, вот что такое наша жизнь с этой точки зрения.
В античных Афинах «идиотом» называли того, кто отказывался понимать, что такое политика (жизнь полиса с его общей судьбой) и такой античный «идиотизм» лег в основу мировоззрения «Нью-Йоркера» и всего этого обаятельного стиля для мелкой и средней буржуазии и всех, кто к ней прилип.
Вся обаятельность тут построена на превращении общего в частное и в этом смысле это настоящая буржуазность как стиль мышления и способ видеть.
К слову у нас, в местных медиа, начиная с 1990-х местный «Нью-Йоркер» несколько раз пытались запускать. Я помню не менее пяти таких попыток (отдельная тема) и всякий раз это дело выдыхалось, не отыскав достаточного спроса. Другой классовый состав общества и другая история делают так, что в итоге «местный Нью-Йоркер» читают только те, кто уже в него пишут или хотят писать, а вовсе не «широкие слои просвещенной буржуазной публики», у которой должно найтись время и охота для такого чтения.
В фильме мне нравится, что всё это с дистанции показано. Т.е. это фильм не про заключенного художника, не про молодых бунтарей, не про похищение ребенка, а про то, как обо всем этом рассказывала определенная журналистская традиция (которая у меня с «Нью-Йоркером» ассоциируется). Дистанцию эту можно воспринять как ироническую или как ностальгическую, не важно, для меня важнее, что режиссер всё время декларирует разницу между этим декоративным миром и нашим закадровым опытом. Это фильм о журналистской манере, которая претендовала на целое мировоззрение, предлагаемое условному «среднему классу» как его особенный способ видеть и говорить. И главное чувство от этого фильма – твоя отдельность от этой оптики, ушедшей, да никогда тебе и не свойственной.
«Какой имеют смысл телеги, беговые дрожки/ И почему в глазах коровы отражаются окошки,/ Хотя они ей вовсе не нужны» — Олейникова люблю, но во мне этого всего было очень мало, буквально несколько процентов наскребывалось, поэтому и сотрудничал я с местными версиями «Нью-Йоркера» весьма эпизодически, по чайной ложке в год. Я всегда был предсказуемым романтиком, везде пытался обнаружить след утопии, поставить наблюдательность и слух на службу превращения частного в общее, личного в универсальное, лирического в эпическое, трогательного в возвышенное, как и положено социалистическому сюрреалисту. Поэтому в этом кино мне нравится непреодолимая дистанция – другая манера переживания других людей в другом времени и обстоятельствах, ретрокомикс, который режиссер бережно ставит на отведенную полку.
Именно эта дистанция создает мило-издевательскую мелодию в голове и уникальный привкус яда во рту.